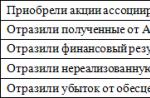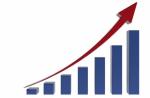Весной моя мама обратилась в подмосковную районную поликлинику с жалобами на боли в сердце. ЭКГ показала острую аритмию. Местный кардиолог прописал ей «таблеточки» и отправил домой — отдыхать после 5-часового стояния в очереди среди вздыхающих, причитающих, а подчас и стонущих пожилых людей. После приёма «таблеточек» начался сердечный приступ. Далее — круги ада: «скорая», которая не ехала (до тех пор, пока оператору не пообещали хорошо отблагодарить всю команду), больница, в которой не было мест (пока не устроили скандал у главврача), лечение, которое привело к реанимации и трём клиническим смертям. Платили всем — бригаде реаниматологов, каждой нянечке, а когда кризис миновал — палатному врачу, медсёстрам и всем специалистам, которые брали анализы.
То, что происходит в районных больницах с людьми, чьи родственники не в состоянии каждый день выкладывать по несколько тысяч, — страшно.
Таких людей не то что не лечат — их натурально убивают. Не подходят, не берут анализы, не дают необходимых лекарств. Одной женщине, случайно попавшей с инсультом именно в эту больницу (она ехала на дачу), вместо необходимого препарата через капельницу вводили физраствор — воду. Причём лекарство было в наличии, но, по словам заведующей неврологическим отделением, не предназначалось для людей с московской пропиской! Не поверила бы в эту историю, если бы та женщина не оказалась маминой соседкой по реанимации. На физрастворе она продержалась недолго, и, как только подключённый к ней аппарат стал показывать ровную линию, её накрыли и увезли в морг.
Медсёстры путают таблетки, хамят, отказываются измерять давление тяжело больным («У нас тут все такие!»), уборщица заглядывает в палату раз в неделю, а от «профессионализма» врачей вообще волосы дыбом встают. Местный кардиолог в буквальном смысле не понимала, на каком языке говорил доктор из Первого Меда, которого мы пригласили на консультацию. Бог с ним, что не понимала — она и слушать его не хотела, ей неинтересно. После 4 часов дня в поисках единственного на всю больницу дежурного врача приходится бегать по этажам. Разносчицы еды шипят «Быстрее!», и те, кто не успевает вовремя доплестись до кастрюль со своими тарелками, остаются без обеда. Больные разговаривают с медперсоналом униженным, умоляющим тоном. Все это выглядит омерзительно.
Если не покупать изо дня в день больничный персонал, можно сразу готовиться к худшему. По утрам из палат вывозят трупы — докажи потом, врачебная это ошибка или судьба. Спасибо на том, что как только мама стала транспортабельной, её выписали: «Мы сделали всё возможное». Вырваться оттуда было счастьем.
Оказавшись в Федеральном центре им. Бакулева, мы попали в параллельную реальность. Врачи понимают (!) и доходчиво объясняют родственникам причины и суть болезни, находятся в отделении до 9-10 вечера, работники столовой улыбаются (это кажется вообще чем-то инопланетным). Люди со всей России — счастливчики — приезжают к Лео Бокерия и его подчинённым делать операции на сердце, которые дают им шанс на новую жизнь. Получить квоту на лечение крайне сложно, приходится обивать пороги многочисленных инстанций, а время не ждёт, сердце-то может остановиться в любой момент. Таких центров на всю страну от силы три, при этом сердечно-сосудистые заболевания первой строкой стоят в списке причин смертности россиян. Узнать, найти, добиться — всё это требует огромного количества сил, времени, материальных затрат. А часто больные и их родственники просто не знают, что шанс на спасение — есть!
Да и пробить бюрократическую стену иногда просто невозможно. Я видела десятки отчаявшихся людей в Московском департаменте здравоохранения. Все они пытаются получить направления в больницы, на операции. Старичок сидел и бесшумно плакал, а потом, когда в десятый раз не смог получить путёвку в хоспис для больной раком жены, отрезал: «Больше не приду». У таких людей остаётся один выход — оплачивать квалифицированное лечение из своего кармана. Но вы знаете, сколько стоит койка-день в хорошей (государственной) московской больнице? В среднем 2500-3500 рублей. Не считая стоимости анализов, операций, процедур. В частных клиниках — дороже. А стоимость операций нередко стремится к стоимости квартир. Нам повезло, мы спаслись. А миллионы россиян — нет.
На днях я зашла в злополучную районную поликлинику забрать мамину карту, где зафиксирована вопиющая врачебная некомпетентность. На врача, отправившего домой, а не прямиком в больницу пациента во время приступа аритмии, элементарно завести уголовное дело. И таких прецедентов в его практике, я уверена, очень много. Но в суд никто не идёт. Врач до сих пор лечит... После похорон у нас принято плакать и сетовать на судьбу, а не разбираться с теми, кто виновен в смерти близких.
Почему же американцы не проглатывают такие вещи? Они не прощают боль и потерю близких. Вспомнить хотя бы судебное разбирательство с врачом Майкла Джексона. Возможно, именно благодаря гражданской сознательности наших заокеанских соседей их врачи получают достойные зарплаты и дорожат своей профессией. А наши подрабатывают продавцами в аптеках — в лучшем случае. Они тратят свободное от работы время не на повышение квалификации, а на добычу еды для собственных детей. И как им не брать взятки?
В поликлинике я услышала, как толстуха в белом халате отчитывала пожилую женщину: «Нет, ну а что вы хотите, вам уже за 60. Не надо ко мне ходить по пустякам!» Никто из толпившихся вокруг пенсионеров не возмутился. Интересно, а они в курсе, что их европейским соседям не брезгуют делать операции и в 80, и 90 лет? И те продолжают радоваться жизни, путешествовать, учиться. Их никто не гонит в могилу после 60, не говорит, мол, возраст, что поделаешь.
Когда ходишь в хорошую столичную поликлинику по корпоративной страховке, даже не подозреваешь, что жизнь тех, «не москвичей», пользующихся исключительно государственными услугами, в буквальном смысле — висит на волоске. На днях Юрий Лужков поставил перед столичными медиками задачу: больной должен ожидать «скорой» не более 3-4 минут. Учитывая грандиозную разницу между областными и московскими медучреждениями, приказ мэра кажется вполне выполнимым. Для всех, кто за МКАДом, это фантастика.
Приоритетное развитие профилактической медицины, диспансеризация населения, определение групп наблюдения - за этим будущее. И всё более важную роль играет в этом процессе молекулярная диагностика. На многое мы уже сегодня смотрим иначе, и уже совсем скоро, когда исследования уйдут на уровень генов, очень многие вещи станут понятными.
Одним из важных подразделений БКДЦ является отдел дозиметрических и цитогенетических исследований. Какие задачи поставлены перед коллективом и как они решаются сегодня? На этот и другие вопросы отвечает заведующий отделом, заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук Николай Ривкинд .
Николай Борисович, отправной точкой для того большого дела, которому вы отдали много лет, а теперь уже можно сказать - десятилетий, стала глобальная катастрофа в Чернобыле. Человечество еще не сталкивалось с такими масштабными радиационными проблемами, устранение последствий аварии потребовало огромных усилий, и вашей лаборатории тоже выпала честь в этих проблемах подробнейшим образом разбираться.
Наше подразделение было создано в 1992 году - был специальный приказ Минздрава о создании отделения биологической дозиметрии, и в задачи, которые перед нами поставили, входила оценка индивидуальных доз радиационного облучения, полученных разными категориями лиц в результате чернобыльской аварии. Причем, поскольку это лаборатория именно биологической дозиметрии, то оценка индивидуальных доз должна была проводиться по тем специфическим изменениям, которые возникают в организме человека в результате облучения. Есть ведь еще методы физической дозиметрии, у них свои задачи - измерение радиационного фона, измерение дозовой нагрузки по тем изменениям, которые произошли, например, в строениях: по тому, как изменилась структура кирпича, с помощью этих методов можно сказать, какую дозу облучения получил этот кирпич. И далее по этому показателю можно оценить дозу, полученную всем зданием, и определить дозу облучения, полученную людьми, находившимися рядом с этим домом или проживающими в нем. Можно также определить, насколько он защитил людей от радиации.
- Но вы занимаетесь непосредственно человеком…
Мы исследуем изменения, вызванные радиационным излучением, которые произошли в организме человека на клеточном уровне. В то время ожидалось, что в организме будет найдено много структур, по изменениям в которых можно будет оценить радиационную дозу, полученную человеком. Но оказалось, что реально на тот момент работал только один метод - исследование хромосом в клетках периферической крови человека. Было установлено, что есть специфические изменения в хромосомах, которые называются радиационными маркерами. Эти изменения вызываются только облучением. Никаким другим воздействием их нельзя получить. Поэтому, если находят эти изменения, утвердительно отвечают на вопрос, было облучение или нет?
Проблемы индивидуальной дозиметрии нет у профессионалов, которые работают в этой области, потому что все они ходят с дозиметрами, но оказалось, что когда радиационному поражению подвергается такое количество не профессионалов, а простых жителей, подходов к оценке индивидуальных доз не существует. И вот эта задача - разработать методику определения индивидуальных доз - была поставлена перед нашей лабораторией. Мы этот метод освоили, и с 1992 года используем его в своей работе.
У чернобыльской аварии свои особенности - разные территории загрязнены по-разному. Это сильно путало карты?
Мы обследовали большое количество ликвидаторов последствий аварии, переселенцев из зон отселения, жителей пострадавших районов. Был собран объемный материал и показаны корреляции между загрязнением территории и индивидуальными изменениями, обнаруженными у человека. Это, действительно, не так просто было сделать, как казалось. Даже в одном и том же населенном пункте индивидуальные дозы у людей отличались на два порядка. В сто раз! А считалось, что все должны бы были получить примерно равную дозу.
- Эта методика и сегодня используется?
У всех методов есть пределы возможностей. Чем больше времени проходит с момента облучения до момента измерения, тем меньше вероятность оценки дозы. Но мы этот метод оставили, и до сих пор к нам приезжают люди - правда, в основном, это уже не чернобыльцы, а те, кто работал на бывших ядерных полигонах, они просят определить, есть ли у них радиационные поражения. Мы обследуем этих людей. Но сейчас это уже не основная наша задача. Поскольку мы уже занимались исследованием хромосом, то и направление нашей деятельности пошло в эту сторону. Сейчас все исследования, связанные с хромосомами, сосредоточены у нас в отделе.
- Кем они востребованы, для кого вы их делаете?
Для медико-генетической консультации, расположенной рядом на этаже, для гематологов: цитогенетические исследования при опухолях - очень важная часть диагностики. Для медико-генетической консультации мы проводим и пренатальные исследования - до рождения ребенка. По направлению гематологической онкологии наш отдел единственный не только в нашей области, но и во всем ЦФО, мы единственные, кто может заниматься цитогенетикой. Занимаемся разными опухолями: в частности, есть такое заболевание - хронический миелолейкоз, наиболее часто встречающаяся гематологическая опухоль у взрослых. Для диагностики этого заболевания необходимо цитогенетическое исследование. И мы выполняем это исследование не только для пациентов Брянской области, но и для девяти областей ЦФО.
- На договорной основе?
До определенного времени фирма, производившая препарат, которым лечится это заболевание, спонсировала проведение исследований. Сейчас ситуация изменилась. Этот препарат производит уже не только эта фирма. И закупается он как у неё, так и у других, в том числе и у российских производителей, поэтому сегодня мы работаем на договорной основе.
- Вы в этом плане конкурируете только с Москвой, больше ведь не с кем?
Одно время, когда всё начиналось, Центральный федеральный округ тоже попытались завязать на Москву, но столица переоценила свои возможности и там очень скоро сказали: «Мы больше не можем!». И когда мы сказали, что мы можем, они с удовольствием отдали нам всё, что можно было отдать.
- И финансами это как-то подкрепилось?
Финансами это подкрепляется сегодня в результате работы по договорам. Мы зарабатываем. Есть разные варианты: в одном случае нам поставляют расходники и реагенты и оплачивают работу, а в другом случае нам оплачивают работу, а также закупку нами расходников и реагентов.
- Для таких серьезных исследований необходимо и очень серьезное оборудование.
Оно у нас есть. Для решения поставленных задач его вполне хватает. Есть и кадры, что не менее важно. В отделе работают опытные доктора. Очень не простая задача - подготовить врача по цитогенетике. Они учились в Москве - в гематологическом научном центре, в лаборатории, которая занимается цитогенетикой, и в онкологическом научном центре имени Н.Н. Блохина. Каждый такой специалист, без преувеличения, на вес золота. Таких специалистов больше просто нигде нет.
- Опытные имеют одну особенность - стареют потихоньку…
У нас в отделе пока этой проблемы нет. Все пришли сюда достаточно молодыми и сейчас они в расцвете творческих сил. Этим составом можно решать любые, и самые сложные, задачи.
- А что у вас на «вооружении» кроме микроскопов?
С самого начала мы пошли по самому современному пути. Обычно у лаборанта-цитогенетика имеется только микроскоп. Он всё под микроскопом рассматривает и изучает. А мы сразу на микроскоп поставили камеру, которая делает снимок препарата, и он может потом передаваться по сети, каждый с ним работает на своем компьютере. Диагностику проводим, глядя на большой монитор компьютера, а не в окуляр микроскопа.
- Разрешение у цифровика большое?
Сам объектив увеличивает в сто раз и ещё в пятнадцать раз увеличивает микроскоп, получается увеличение в полторы тысячи раз. Этого достаточно, чтобы получить качественную картинку. Но при хроническом миелолейкозе, когда наступает улучшение состояния пациента, изменения, которые мы видим под микроскопом, исчезают. Улучшается ситуация и эти изменения уходят. И вот оказалось, что на молекулярном уровне, на уровне генов, они могут оставаться. Поэтому у нас сейчас активно развивается молекулярная диагностика. Мы можем оценить уровень пораженного гена, который отвечает за эту болезнь. И в идеале излечение - это когда мы на молекулярном уровне не находим изменений.
- Видимо, это, в первую очередь, важно знать врачу, который лечит данного пациента?
Сегодня есть возможность сдать анализ в разных местах, появились даже сетевые лаборатории, они здесь забирают материал, отправляют в Москву, там с ним работают и результат отправляют обратно. А у нас в клинико-диагностическом центре все делается на месте. Кроме всего прочего у нас делаются исследования, которые позволяют охарактеризовать картину в целом. Это не просто индивидуальные исследования по конкретному микроорганизму, а исследования, которые позволяют оценить биоценозы -состояние и соотношение всех микроорганизмов в том материале, который мы исследуем. С дисбактериозом кишечника все знакомы, знают, что это такое - нарушение соотношения бактерий в кишечнике. Но дело в том, что такие, грубо говоря, дисбактериозы, бывают и в других местах. В том числе и в урогенитальном тракте. И это связано не с тем, что там есть инфекционные агенты, которые вызывают болезнь, а с тем, что есть так называемые условные патогены, которые всегда присутствуют, но они должны быть в определенном процентном соотношении. Когда это соотношение нарушается по какой-либо причине, возникают некоторые болезни. Если не оценивать весь биоценоз, а только отдельные микроорганизмы, врач может быть введен в заблуждение и пойти по неправильному пути лечения.
Пациент, вооруженный такой информацией, тоже получает возможность своевременно на нее среагировать? Например, если у плода с помощью молекулярной диагностики вы обнаружили серьезные изменения, грозящие в перспективе вырасти в опасное заболевание, родители могут принять адекватное решение - рожать или не рожать такого ребенка.
Сейчас уже появляется возможность обнаружить эти изменения на генном уровне. Мы смотрим хромосомы, но некоторые вещи даже на уровне хромосом не видны. Нужно «копнуть» глубже. И вот сейчас основные наши задачи - освоение этих новых методов. Мы уже получили оборудование для таких исследований.
В конечном счете, решение принимает пациент, но… посоветовавшись с лечащим врачом. Сегодня специалисты, работающие в разных областях диагностики, говорят, что они могут поставить диагноз. Но это не правильно. Диагноз ставит лечащий врач. Не лаборатория, не функциональная диагностика, не рентген - только врач. Появилось такое направление - доказательная медицина. А что остальная медицина не доказательная? Нет доказательной медицины, есть лечащий врач и есть службы, которые помогают ему поставить диагноз и контролировать лечение. Но он главный. Понятно, что у человека, который занимается диагностикой, может возникнуть ощущение, что он всё может. Он видит на томографе, видит на УЗИ, видит лабораторные изменения, ему кажется, что все понятно. Но, оказывается, что это не так.
- Лечащий врач плюс к этому еще знает своего пациента.
Да. И он видит клинику. Видит динамику этой клиники. Он не лечит болезнь, он лечит больного. Сейчас в Москве работают настоящие фабрики по производству исследований, у них нет проблем с потоком, они всё очень хорошо делают, но есть большой минус - они оторваны от врача. У нас в диагностическом центре тоже действует мощная лабораторная служба - отдел дозиметрических и цитологических исследований, медико-генетическая консультация, клинико-диагностическая лаборатория, отдел клинической морфологии, проводится широкий спектр исследований, некоторые исследования носят уникальный характер, - но плюс к этому у нас теснейший контакт с лечащими врачами, работающими здесь же, в нашем центре. Для такого количества врачей - такая серьёзная лабораторная служба! Есть мощные лаборатории - например, лаборатория первой областной больницы, где работают прекрасные специалисты, но там огромное количество врачей и отделений, поэтому такой тесной связи, как у нас, нет.
- Но у вас же всё-таки есть контакты и с другими учреждениями?
Конечно. Мы никому не отказываем в проведении исследований. Кроме лабораторных исследований, которые делаются для врачей, работающих в клинико-диагностическом центре, мы делаем огромное количество исследований для пациентов, которые лечатся не у нас.
Хотел бы обратить внимание на такую проблему: люди проходят обследования в разных местах, сравнивают результаты и у них возникают некоторые сомнения, потому что результаты получаются не совсем одинаковые. Но если взять несколько поваров и дать им один и тот же рецепт приготовления борща с одними и теми же ингредиентами, борщ все равно будет разным по вкусу. Один купил морковку на рынке, другой в магазине. Вроде одно и то же, но не совсем. Так и в этих многочисленных службах. Поэтому проходить обследования нужно в одной и той же лаборатории. Это даст гарантию качества лечения.
— Владимир ВолковКсения Коваленок, руководитель медицинского центра «Милосердие». Фото: Павел Смертин, февраль 2018 года
«В больнице я научилась доверять Богу»
Если Ксению Коваленок попросить назвать пять слов, которые лучше всего ее характеризуют, то она ответит «врач, врач, врач, врач, врач». Врач-педиатр, паллиативный врач, главный врач медицинского центра, в котором работают сразу несколько проектов службы «Милосердие»: Центр реабилитации для детей с ДЦП, детская выездная паллитативная служба, респис и проект поддержки особого детства «Дети.pro».
Все это — должность за должностью, ответственность за ответственностью — появились в ее жизни как будто без ее инициативы, то ли случайно, то ли промыслительно. Она хотела быть медсестрой – не лечить больных, а ухаживать за ними, просто быть рядом и помогать. А стала врачом, который работает с неизлечимо больными детьми.
В 1991 году Ксения, тогда выпускница школы, пришла в Свято-Димитриевское училище сестер милосердия. Это был самый первый набор студенток, училище было вечерним, и сестры милосердия почти сразу начали работать в отделениях Первой градской больницы. Это сейчас там опрятные палаты и почти комплект персонала. А тогда, вспоминают сестры, больные лежали в коридорах, а от запаха можно было дышать лишь в пол ноздри. Во время учебы Ксения работала в травматологии, потом – реанимации.
Главное, чем ее научила работа в больнице, — доверять Богу, — вспоминает Ксения. Потом, когда она столкнется со страданием неизлечимо больных детей, это поможет не отчаяться и принять все как есть.
— В моей жизни были ситуации, когда я требовала от Бога, чтобы он мне показал, почему все случилось именно так. И Он показывал. Теперь я Ему просто доверяю.
Были разные случаи. Однажды в отделение травмы попал 20-летний парень: упал с балкона, сломал два ребра. Мы, санитарки отделения травмы, были в белых косынках с крестом, поэтому нас порой воспринимали как «ангелов», просили помолиться. А я была такая новоначальная, горящая, и мама этого молодого человека ко мне подошла и попросила молиться за Олега. Я тогда подумала: чего она так беспокоится, подумаешь, два ребра сломал, все же будет хорошо. Но, конечно, молилась.

В рабочем кабинете
Вскоре прихожу в отделение, а Олега нет. Думаю — выписали уже. А потом оказалось, что он умер — врачи вовремя не заметили внутреннего кровотечения.
Я была в шоке. Как это могло произойти: умер здоровый с виду парень, двадцатилетний, за которого я так молилась! Для меня это было серьезным испытанием.
Но придя вечером на занятия в училище, я услышала рассказ одной из наших сестер, которая как раз работала в реанимации этой травмы. Во время ее дежурства молодой человек с тяжелым перитонитом стонал и говорил: «За что?». Сестра подошла к нему, спросила: как ты сам думаешь, почему это с тобой случилось? И он вдруг стал просить у Бога прощения.
Вот в этом состоянии, в мольбе о прощении он умер. И оказалось – это Олег, упавший с балкона, о спасении которого я так молилась. Только о спасении чего — жизни или души? Значит, для спасения души было так нужно.
Сейчас я воспринимаю жизнь и смерть в прямой связи, как нечто целое, без противоречий друг с другом, потому что знаю, что Господь просто так ничего не делает.
«Врачом я быть не хотела»

Ксения хотела быть медсестрой – не лечить больных, а ухаживать за ними, быть рядом. А стала врачом, который работает с неизлечимо больными детьми
Работая медсестрой в реанимации, Ксения поступила в медицинский институт на педиатрию, хотя раньше не было желания стать врачом, тем более детским, но – «если уж учиться на врача, то нужно знать, как лечить и детей, и взрослых ». Осваивать новое, а потом идти туда, куда никто не хочет идти, кажется, было ее программой. Еще во время ординатуры, а потом после окончания института Ксения работала в поликлинике – оттуда все хотели сбежать и оставались разве что от безнадежности, а ей нравилось. Был свой участок, к которому были прикреплены 700 детей, они росли у нее на глазах.
Все изменилось однажды весной, как раз после эпидемии гриппа, когда у Ксении было по 40 вызовов в день. Позвонил епископ Пантелеимон, духовник Свято-Димитриевского сестричества и руководитель православной службы помощи «Милосердие» — в то время служба была гораздо меньше, десятка проектов еще не существовало. Владыка сказал, что Центру реабилитации детей с ДЦП нужен руководитель. Предполагалось, что это временно. Особого желания идти туда у Ксении Владимировны не было: «неврология меня пугала, я не хотела работать с теми, кого нельзя вылечить». Но жизнь так повернулась.
Ксения Владимировна оказалась в центре реабилитации, а через несколько месяцев в Марфо-Мариинскую обитель, где это центр находится, приехал отец Александр Ткаченко – основатель первого в России детского хосписа. И как-то стало ясно, что и Москве хоспис тоже нужен – нет, не нужен, необходим. Чтобы понять, сколько детей в Москве нуждаются в хосписной помощи, создали детскую выездную паллиативную службу «Милосердие» . Тогда, в 2011 году, эта служба была единственной в Москве.
И оказалось, что дети с онкологией составляют не самый большой процент паллиативных больных, зато очень много детей с генетическими болезнями, тяжелыми последствиями травм и неврологическими патологиями. И они совершенно никому не нужны. В больницах и поликлиниках их родителям просто говорят: «Мы ничего не можем сделать, эта болезнь не лечится».
Что можно сделать, если «болезнь не лечится»

«Я сама удивилась, что мне понравилось заниматься с неизлечимо больными детьми. Я видела на лицах их родителей такую радость от того, что мы вообще есть, от того, что хоть кто-то рядом.
Ведь этих детей просто выписывают домой, и родители сами крутятся, как могут», — рассказывает Ксения Коваленок.
Хоспис хотели сделать в Марфо-Мариинской обители, но пока собирали деньги и думали, с какой стороны подступиться, были приняты новые государственные законы и нормы, и хоспис в обители так и не появился. Появился респис – несколько маленьких комнат, а в них шесть коек. У респиса нет лицензии на обезболивание, но у него есть другая функция – родители могут оставить здесь детей на месяц и отдохнуть — может быть, впервые с момента рождения больного ребенка.
«Врачей учат в институте, как вылечить болезнь, а когда болезнь неизлечима, врачи просто не знают, в чем тогда должна заключаться их работа. И наша работа – врачей-паллиативщиков – им кажется непозитивной, странной. Чтобы найти в этом смысл, нужно много чего увидеть и понять, не только медицинского.
Когда я работала в реанимации, очень много людей, которые по врачебным меркам должны были поправиться, умирали, и наоборот, люди, которые должны были умереть, выживали.
И я поняла, что мы не решаем судьбу больного – мы просто стоим рядом», — говорит Ксения Владимировна. Врач всего лишь проводник Божественных замыслов.

У Ксении Коваленок есть рецепт, как не отчаяться и не очерстветь душой, бесконечно сталкиваясь с чужой болью. Этот рецепт родом из Свято-Димитриевского училища сестер милосердия, и, кажется, спроси любую сестру, она ответит: “Как сказал владыка (епископ Пантелеимон), нужно пропускать чужую боль через себя и отдавать ее Богу”».
Но самое страшное – не столкновение с чужой болью, а ситуации, в которых нельзя помочь. Не вылечить – все эти дети неизлечимо больны – а помочь.
«Если мама не принимает диагноз и ситуацию, можно только стоять и смотреть, как семья разрушается.
Родители не разрешают оказать помощь, которую ты мог бы оказать: кого-то из детей нужно покормить правильно, через гастростому, чтобы он не давился, кому-то нужно снять спастику, обезболить. Но родители многого не делают, потому что считают: незачем ребенка «мучить», раз все равно его не вылечить.
Иногда, наоборот, родители слишком много энергии и сил тратят на борьбу с тем, с чем не нужно бороться, упорно пытаются излечить неизлечимо больного ребенка, поставить на ноги. Из-за этого семья теряет время, которые можно потратить на то, чтобы проводить его вместе, любить ребенка таким, какой он есть», — говорит Ксения Коваленок.
В практике детской выездной паллиативной службы есть множество примеров, когда семьи только через несколько лет перестают «ставить ребенка на ноги» и начинают оказывать ему ту паллиативную помощь, в которой он реально нуждается. И тогда жизнь семьи меняется. Конечно, паллиативная помощь – это не о больших чудесах, а о том, чтобы у ребенка не было пролежней и постоянной пневмонии из-за неправильного кормления. И эти «небольшие чудеса» происходят: время, проведенное с ребенком, оказывается, может быть счастливым, трудности – преодолимыми, а маленькие радости – большими.
Центр реабилитации для детей с ДЦП , детская выездная паллитативная служба , респис и проект поддержки особого детства «Дети.pro» — это совместные проекты службы «Милосердие» и Марфо-Мариинской обители, которое помогают детям с неизлечимыми заболеваниями. Социальные проекты существуют благодаря пожертвованиям неравнодушных людей, поддержать их можно на сайте miloserdie.helpУже третьи сутки страдаю от того, что болит зуб. Болит постоянно, не переставая, не сильно, но ощутимо. И это при том, что неделю назад была у стоматолога, где мне этот же зуб и запломбировали. До установления пломбы он, как это ни странно, не болел.
Собственно медицина, у нас в стране платная. Бесплатная она до 18 лет, либо по страховке. В любом другом случае - очень платная. Особенно стоматология.
Я - пациент практически всех возможных медицинских специалистов с долголетним стажем. Здоровой я была только 2 недели в своей жизни, это были мои первые 2 недели в этом мире, далее - сплошной диагноз. Стафилокок в роддоме, больной желудок, кишечник, сердечная аритмия, а к 19-ти годам бесконечный список пополнился аллергией и хроническим тонзилитом. У меня наверное была самая толстая медицинская карта в детской поликлинике. В садик дольше месяца я не ходила, в школе заболеть по 2 раза за одну четверть - обычное дело. Ну и конечно же все мои болезни сопровождаются врачами-анализами-лекарствами.
Во время своего детсва я застала пору и бесплатной медицины, и платной. Мама, перепугавшись за мою жизнь и здоровье в самом начале моей жизни, решила что врачам, если денег не платим, то надо иными способами уделять внимание и выражать благодарность, иначе надежды нет. Коробку конфет отнести, духи, косметику - это в моей памяти отложилось, как проходной билет в кабинет.
После обретения нашей страной независимости все поликлиники превратились в коммерческие медицинские центры, а детских врачей всех переквалифицировали в семейных. Постепенно мы пришли к тому, что без семейного врача в медицинском мире шагу ступить простому сметрному нельзя. К любому специалисту требуется направление семейного врача, иначе приём вряд ли окажется Вам по карману. Если же Вы имеете направление, то всё равно заплатите, но раза в 3 меньше. Имеются и врачи на частной практике, которых Ваше направление не интересует и расценки на свои услуги они составляют сами. Чтобы купить какое-либо лекарство, Вам также потребуется рецепт от семейного врача, либо специалиста. Без рецепта можно купить только витамины или пищевые добавки, травы и то не все продают!
Система работает отлично. Прихожу я, значит, к семейному врачу с жалобами на боль в животе. Я конечно догадываюсь, что съела что-то не то, или вирус какой кишечный, но нужен диагноз, справка в университет об обоснованном пропуске, ну и лечение какое-то в конце концов. Сначала будут щупать и задавать вопросы, далее направят на анализы. Через 2-3 дня полагается вновь прийти на приём за результатами, которые ничего не покажут. Раз анализы в порядке, это может быть и не кишечник вовсе - отправят к гинекологу (на всякий случай, а вдруг это беременность?). После гинеколога опять на приём к семейному. Для того, чтобы я была в состоянии ходить по этому кругу, выписывается какое-нибудь обезболивающее, которое боли в животе облегчает, но проблему естественно не решает. Раз гинеколог беременности не нашёл, отправим всё таки к гастроэнтерологу, а к нему очередь 2 месяца. Ждём очереди, опять отправляют на анализы... Я уже ничего не говорю о том, что за каждое посещение любого врача надо платить, и за анализы, и за лекарства, само собой.
Уж по скольким таким кругам я прошла в своей жизни, рассказать невозможно. На самом деле всё очень просто: ни одному врачу не выгодно, чтобы люди были здоровы. Также как это не выгодно фармацевтическим компаниям и лабораториям. Ни один врач, выписывая Вам рецепт на лекарство, не надеется, что оно Вам поможет, ему даже не всё равно. Самое страшное - он наоборот надеется на то, что Вы придёте ещё раз, а может даже вызовете его на дом (это ведь стоит ещё дороже) и он Вам выпишет другое лекарство, посильнее и подороже. У нас даже и не скрывается то, что у фармацевтических фирм договора с докторами, за каждый выписанный на определённое лекарство рецепт они получают свой процент. И если бы это всё ещё помогало... Самые выгодные пациенты - с хроническими заболеваниями, так как они сами уже и не верят в излечение, но ходят на осмотры регулярно.
Возвращаясь к своему многострадальному зубу, могу заметить, что у стоматологов наверняка ситуация ничем не отличается. Не выгодно им сразу поставить пломбу достаточного размера и качества. А выгодно, чтобы я, замученная и согласная на всё что угодно, пришла ещё раз, заплатила за анестезию, за новую пломбу. Потом мне настоятельно порекомендуют сходить к гигиенисту, а также накажут покупать только определённую зубную пасту и специальную щётку, и будут пугать, что в противном случае, я испытаю все эти мучения ещё раз.
Мне однажды рассказали об очень интересной некогда существовавшей медицинской системе в Индии. В одном городе люди регулярно платили врачам, до тех пор, пока они были здоровыми. Как только жители заболевали, взносы прекращались и задачей доктора было как можно быстрее вылечить пациента, чтобы опять получать свою зарплату. Удивляюсь, почему в современном цивилизованном мире, люди не могут добиться подобного подхода к здравоохранению?
А к стоматологу завтра пойду, на обезболивающих таблетках долго не протянешь.
В тему о врачах, убивающих долго, дорого и мучительно, по всем правилам медицинской науки. Старая, но правильная статья The Wall Street Journal.
Доктор медицины из Южной Калифорнии рассказал, почему многие врачи носят кулоны с надписью «Не откачивать», чтобы им не делали непрямой массаж сердца в случае клинической смерти. А также - почему они предпочитают умирать от рака дома.
Много лет назад, Чарли, уважаемый врач-ортопед и мой наставник, обнаружил у себя в животе какой-то комок. Ему сделали диагностическую операцию. Диагноз - рак поджелудочной железы. Операцию делал один из лучших хирургов страны. Он даже разработал операцию, которая утраивала вероятность прожить пять лет после постановки диагноза именно этого вида рака с 5 до 15 %, хотя качество жизни при этом было бы очень низким. Чарли был совершенно не заинтересован в операции. Он выписался из больницы на следующий день, закрыл свою врачебную практику и больше ни разу не ступил ногой в больницу. Вместо этого он посвятил все свое оставшееся время семье. Его самочувствие было хорошим, насколько это возможно при диагнозе рак. Спустя несколько месяцев он умер дома. Чарли не лечился химиотерапией, не облучался радиацией и не делал операций. Государственная страховка для пенсионеров Медикер почти что ничего не потратила на его содержание и лечение.
Эту тему редко обсуждают, но врачи тоже умирают. И они умирают не так, как другие люди. Поразительно не то, как много врачи лечатся перед смертью по сравнению с другими американцами, а то, насколько редко они обращаются к врачам, когда дело близится к концу. Врачи борются со смертью, когда дело идет об их пациентах, при этом у них самих очень спокойное отношение к собственной смерти. Они точно знают что произойдет. Они знают какие варианты у них есть. Они могут себе позволить любой вид лечения. Но они уходят тихо.
Естественно, врачи не хотят умирать. Они хотят жить. В то же время, они знают достаточно о современной медицине, чтобы понимать границы возможностей науки. Они так же знают достаточно о смерти, чтобы понимать чего больше всего боятся все люди - смерть в мучениях и смерть в одиночестве. Они говорят об этом со своими семьями. Врачи хотят быть уверены, что когда придет их час, никто не будет героически спасать их от смерти, ломая ребра в попытки оживить их непрямым массажем серца (а это именно то, что происходит, когда это делают правильно).
Практически все медработники хотя бы раз были свидетелями “тщетного лечения”, когда не было никакой вероятности, что смертельно больному пациенту станет лучше от лечения самыми последними достижениями медицины. Пациенту вспорют живот, навтыкают в него трубок, подключат к аппаратам и отравят лекарствами. Именно то происходит в реанимации и стоит десятки тысяч долларов в сутки. За эти деньги люди покупают страдания, которые мы не причиним даже террористам. Я сбился со счета сколько раз мои коллеги говорили мне примерно следующее: “Пообещай мне, что если ты увидишь меня в таком состоянии, ты меня убьешь”. Они говорят это на полном серьезе. Некоторые медики носят кулоны с надписью “Не откачивать”, чтобы врачи не делали им непрямой массаж сердца. Я даже видел одного человека, который сделал себе такую татуировку.
Лечить людей, причиняя им страдания, мучительно. Врачей обучают собирать информацию не показывая свои чувства, но между собой они говорят то, что переживают. “Как люди могут так истязать своих родных?”, - вопрос, который преследует многих врачей. Я подозреваю, что вынужденное причинение страданий пациентам по желанию семей - одна из причин выского процента алкоголизма и депрессии среди медработников по сравнению с другими профессиями. Для меня лично это была одна из причин, по которой последние десять лет я не практикую в стационаре.
Что случилось? Почему врачи прописывают лечение, которое они бы никогда не прописали сами себе? Ответ, простой или не очень - пациенты, врачи и система медицины в целом.
Чтобы лучше представить какую роль играют сами пациенты, представьте себе следующую ситуацию. Человек потерял сознание, и его привезли по скорой в больницу. Никто не предвидел такого сценария, поэтому заранее не было оговорено что делать в таком случае. Это очень распостраненная ситуацию. Родственники напуганы, потрясены и путаются в бесчисленном числе разнообразных вариантов лечения. Голова идет кругом. Когда врачи спрашивают “Хотите ли вы, чтобы мы “сделали все”?”, - родные говорят “да”. И начинается ад. Иногда семья на самом деле хочет “сделать все!, но чаще всего они просто хотят, чтобы было сделано все в разумных пределах. Проблема заключается в том, что обыватели часто не знают что разумно, а что нет. Запутавшиеся и скорбящие они могут и не спросить или не услышать, что говорит врач. А врачи, которым было велено “сделать все”, будут делать все, разумно это или нет.
Такие ситуации случаются спошь и рядом. Ситуация еще больше усугубляется тем, что у людей есть нереалистичные ожидания о том, что могут сделать врачи. Многие думают, что искусственный массаж сердца - надежный способ реанимации, хотя большинство людей все равно умирают или же выживают глубокими инвалидами. Я принял сотни пациентов, которых привозили ко мне в больницу после реанимации искусственным массажем сердца. Лишь один из них, здоровый мужчина со здоровым сердцем, вышел из больницы своими ногами. Если пациент серьезно болен, стар, у него смертельная болезнь, вероятности хорошего исхода реанимации почти что не существует, при этом вероятность страданий почти что 100%. Нехватка знаний и нереалистичные ожидания приводят к плохим решениям о лечении.
Конечно же, не только пациенты виноваты в сложившейся ситуации. Врачи делают бесполезное лечение возможным. Проблема заключается в том, что даже врачи, которые ненавидят тщетное лечение, вынуждены удовлетворять желания пациентов и их родстввенников. Представьте снова травмапункт в больнце. Родственники рыдают и бьются в истерике. Они впервые видят врача. Для них он полный незнакомец. В таких условиях крайне сложно наладить доверительные отношения между врачом и родными пациента. Люди склонны заподозрить врача в нежелании возиться со сложным случаем, экономии денег или своего времени, особенно, если врач не советует продолжать реанимацию.
Не все врачи умеют разговаривать с пациентами на доступном и понятном языке. У кого-то это получаетя лучше, у кого-то хуже. Некоторые врачи более категоричны. Но все врачи сталкиваются с похожими проблемами. Когда мне нужно было объяснять родственникам больного о различных вариантах лечения перед смертью, я как можно раньше рассказывал им только о тех возможностях, которые были разумны в данных обстоятельствах. Если родные предлагали нереалистичные варианты, я простым языком доносил до них все отрицательные последствия такого лечения. Если семья все же настаивала на лечении, которое я считал бессмысленным и вредным, я предлагал перевести их в ведение другого врача или больницы.
Нужно ли мне было быть более настойчивым, убеждая родстенников не лечить смертельного больных пациентов? Некоторые из случаев, когда я отказался лечить пациента и передал их другим врачам, до сих пор преследуют меня. Одна из моих любимых пациенток была юристом из знаменитого политического клана. У нее была тяжелая форма диабета и ужасное кровообращение. У нее на ноге появилась болезненная рана. Я пытался сделать все, чтобы избежать госпитализации и операции, понимая насколько опасны больницы и хирургическое вмешательство для такой пациентки. Она все же пошла к другому врачу, которого я не знал. Тот врач почти что не знал историю болезни этой женщины, поэтому он решил прооперировать ее - шунтировать тробмозные сосуды на обеих ногах. Операция не помогла восстановить кровоток, а послеоперационные раны не заживали. На ступнях пошла гангрена, и женщине ампутировали обе ноги. Две неделе спустя она умерла в знаменитой больнице, где ее полечили.
Было бы слишком лишко указать пальцем на пациентов и врачей, когда часто и врачи, и пациенты становятся жертвами системы, которая поощраяет чрезмерное лечение. В некоторых печальных случаях врачи просто получают плату за каждую процедуру, которую они делают, поэтому они делают все, что можно, невзирая на то поможет это пациенту или навредит, просто с целью заработать побольше. Намного чаще все же, врачи боятся, что семья пациента будет их судить, поэтому они делают все, что просит семья, не выражая своего мнения родным пациента, чтобы не было никаких проблем.
Даже если человек заранее подготовился и подписал нужные бумаги, где высказал свои предпочтения о лечении перед смертью, система все равно может сожрать пациента. Одного из моих пациентов звали Джек. Джеку было 78 лет, он болел в течение многих лет и пережил 15 серьезных операций. После всех перепетий Джек совершенно уверенно предупредил меня, что никогда ни при каких обстоятельствах он не хочет оказаться на аппаратах искусственного дыхания. И вот, однажды в субботу, у Джека случился инсульт. Его доставили в больницу в бессознательном состоянии. Жены Джека не было с ним. Врачи сделали все возможное, чтобы его откачать, и перевели в реанимацию, где подключили к аппарату искусственного дыхания. Джек боялся этого больше всего в жизни! Когда я добрался до больницы, я обсудил пожелания Джека с персоналом и его женой. На основании моих документов, составленных с участием Джека, я смог отключить его от аппаратуры, поддерживающей жизнь. Потом я просто сел и сидел с ним. Через два часа он умер.
Несмотря на то, что Джек составил все нужные документы, он все равно умер не так, как хотел. Система вмешалась. Более того, как я узнал позже, одна из медсестер накляузничала на меня за то, что я отключил Джека от аппаратов, а значит совершил убийство. Т.к. Джек заранее прописал все свои пожелания, мне ничего не было. Но все же угроза полицейского расследования вселяет ужас в любого врача. Мне было бы легче оставить Джека в больнице на аппаратуре, что было явно против его желания, продлевая его жизнь и страдания еще на несколько недель. Я бы даже заработал побольше деньжат, а страховая компания Медикер получила бы счет на дополнительные $500,000. Неудивительно, что врачи склонны перелечивать.
Но себя врачи все же не перелечивают. Они ежедневно видят последствия чрезмерного лечения. Почти что каждый человек может найти способ мирно умереть дома. У нас есть множество возможностей облегчить боль. Хосписный уход помогает смертельно больным любям провести последние дни жизни комфортно и достойно, вместо того, чтобы страдать от напрасного лечения. Поразительно, что люди, за которыми ухаживает хоспис, живут дольше, чем люди с такими же болезнями, которых лечат в больнице. Я был приятяно поражен, когда услышал по радио, что известный журналист Том Викер “умер мирно дом в окружении семьи”. Такие случаи, слава богу, встречаются все чаще.
Нескольько лет назад у моего старшего двоюродного брата Торча (torch - фонарь, горелка; Торч родился дома при свете горелки) случилась судорога. Как оказалось впоследствие, у него был рак легких с метастазами в мозг. Я договорился с разными врачами, и мы узнали, что при агрессивном лечении его состояния, что означает три-пять визитов в больницу для химиотерапии, он проживет около четырех месяцев. Торч решил не лечиться, переехал жить ко мне и только принимал таблетки от набухания мозга.
Следующие восемь месяцев мы жили в свое удовольствие, прямо как в детстве. Впервые в жизни съездили в Диснейленд. Сидели дома, смотрели спортивные передачи и ели то, что я готовил. Торч даже поправился на домашних харчах, а не больничной еде. Его не мучали боли, а расположение духа было боевым. Однажды он не проснулся. Три дня он спал как в коме, а потом умер. Стоимость медицинского ухода в течение восьми месяцев - около 20 долларов. Стоимость таблеток, которые он принимал.
Торч не был врачом, но он знал, что хотел жить, а не существовать. Не все ли мы хотим этого же? Если и существует супер-пупер уход за умирающими, то это достойная смерть. Что касается меня лично, то мой врач оповещен о моих пожеланиях. Никакого героизма. Я тихо уйду в ночь. Как мой наставник Чарли. Как мой двоюродный брат Торч. Как мои коллеги врачи.